
Отличник здравоохранения, заслуженный врач РСФСР, имеет медаль за заслуги перед отечественным здравоохранением.
Демобилизовалась 21 сентября 1945 года в звании старшины. Была награждена Орденом Красной Звезды, Орденом Отечественной войны II cтепени, медалью «За победу над Германией», грамотами, в том числе грамотой ЦК ВЛКСМ, и медалями: «В память 850-летия Москвы», «Ветеран труда», лауреат премии имени Святослава Николаевича Федорова.
Внесла существенный вклад в теоретическую и практическую офтальмологию. Нонна Сергеевна Ярцева – автор 195 научных статей, нескольких изобретений и патентов РФ. Н.С. Ярцевой подготовлено 22 учебно-методических пособия по офтальмологии, написаны 3 учебника для медицинских ВУЗов, она является автором 2-х глав учебника В.Г. Копаевой. Соавтор 4-х книг по офтальмологии.
Мариинская гимназия, Французский пансион, Императорский университет
– Нонна Сергеевна! Расскажите, пожалуйста, о Вашем жизненном пути. Где Вас застало начало Великой Отечественной войны? Кем Вы были на фронте?
– Родилась я в семье врача. Мой папа, Сергей Петрович Козловский, окончил медицинский факультет Императорского Московского университета, и его направили работать в Белоруссию. Его родной брат, мой дядя, учился на физико-математическом факультете и после окончания университета уехал в Запорожье, где преподавал в Машиностроительном институте.
Мама, Антонина Васильевна Тихонова, окончила Мариинскую гимназию в Петербурге и специальный педагогический класс. В ее аттестате все оценки были 12 баллов (высшая оценка в то время). После окончания гимназии маму хотели отдать учиться в Институт благородных девиц, но она категорически отказалась. Мамина мама, моя бабушка Екатерина Васильевна, была очень образованным, интеллигентным человеком, окончила Французский пансион в Москве, говорила на четырех языках, прекрасно знала французский, немецкий. Большую часть жизни она прожила в Феодосии, была знакома с Айвазовским, знала, как в нищете умирала жена Айвазовского. Бабушка мне об этом рассказывала. Жили Айвазовские по соседству, Дачный переулок, дом № 8, спуститься вниз к морю и прямо – галерея Айвазовского на самом берегу.
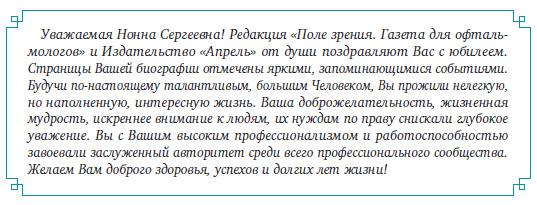
Бабушкиного отца звали Василий Иванович Немирович-Данченко. Это любимый дедушка моей мамы и мой прадед. Я его знаю только по рассказам. Василий Иванович был известным в России писателем, военным корреспондентом во время русско-турецкой войны (там его наградили солдатским Георгиевским крестом), участвовал в русско-японской вой-не, Первой мировой. Жили они в Петербурге в огромном доме на Николаевской улице (сейчас улица Марата). У бабушки были няньки, мамки, горничные, кухарки. Потом бабушка влюбилась в грека, художника, и уехала в Феодосию.
За всю свою долгую жизнь Василий Иванович написал 270 книг. Умер он в Праге в возрасте 93 лет. Родным братом Василия Ивановича был Владимир Иванович Немирович-Данченко, основатель Московского Художественного театра. У Владимира Ивановича и его жены, Екатерины Николаевны, было огромное имение в Черниговской губернии. Они были богатые люди, но при Советской власти всего лишились. Детей у них не было, и Владимир Иванович попросил мою бабушку «отдать им Тоню» (мою маму). Мама отказалась, Владимир Иванович на нее сильно обиделся. Мама была очень принципиальным человеком и платила ему тем же. Когда мама приезжала в Москву, она не ходила в театр к Владимиру Ивановичу, но всегда ходила к Мейерхольду, ученику Немировича.
…Я очень жалею, что в свое время очень мало спрашивала маму. Вся жизнь проходила в какой-то суете, и было некогда просто сесть и поговорить…
Моя мама до переезда в Белоруссию жила на Васильевском ост-рове в Ленинграде. Мамин отец, Василий Иванович Тихонов, окончил Петербургский университет и остался работать при университете. В их семье было четверо детей – три брата и моя мама. Все были очень образованные люди. Старший брат, Коля, жил на юге, в Крыму; дядя Шура, мамин младший брат, был военный, кавалерист, до войны уже носил ромб в петлице. Еще один брат, дядя Вася, был экономистом.
…В голодные послереволюционные годы мамина семья перебралась в белорусский город Оршу. Там мама с папой и познакомились, а через некоторое время родилась я. В школе я не была отличницей, но по всем предметам успевала очень хорошо. Папа был уважаемым земским врачом в Орше, мама не работала, воспитывала меня и мою старшую сестру. В Белоруссии я окончила 10 классов и уехала в Ленинград поступать в институт.
«Нонна, в медицину не иди – это очень тяжелая профессия»
В Ленинграде я сама поступила во Второй Ленинградский медицинский институт на лечебный факультет.
– Это был осознанный выбор?
– Конечно, ведь мой папа был земский врач. Хотя мне папа говорил: «Нонна, в медицину не иди – это очень тяжелая профессия». Действительно, нужно было и много знать, и уметь обращаться с людьми. Папа был очень хороший человек. Когда он шел по улице, люди при виде его издалека снимали шапку: «Сергей Петрович идет». Хотя папа и отговаривал меня идти в медицину, я его не послушалась. Правда, до этого я написала письмо Владимиру Ивановичу Немировичу-Данченко, хотела стать артисткой, но он мне ответил, чтобы стать артисткой, надо иметь талант…
В институте я очень много занималась, и вдруг – война. Ничто не предвещало такой беды. Был чудесный теплый летний день, июнь. Мы только сдали сессию. Я ехала по Невскому проспекту в сапожную мастерскую подбить набойки на туфли. Смотрю из окна трамвая на улицу, а вокруг репродукторов толпятся люди: «Война». Набойки я набила, возвращаюсь в общежитие, навстречу идет наш преподаватель марксизма-ленинизма. «Вы куда? – спрашиваю я его. – В военкомат, ухожу на фронт». Мы все, однокурсники, вместе собрались и тоже решили идти на фронт. В военкомате нам сказали, что всех на фронт не пошлют, надо поработать пока в городе. Нас отправили на Васильевский остров организовывать госпиталь в помещении дворца культуры им. Кирова. Времени на организацию госпиталя у нас практически не было. Мы таскали на себе тяжеленные железные кровати, деревянные тумбочки и прочий госпитальный инвентарь. Когда вспоминаешь эти дни, становится страшно: голодные, холодные, но из последних сил работали. Нас охватил невиданный патриотизм и не только нас – всех тех, кто остался в Ленинграде. Многие к тому времени уже ушли на фронт. Никого не надо было заставлять что-то делать. Немцы наступали быстро, город постоянно бомбили. Фашистские войска уже настолько близко подошли к Ленинграду, что очень скоро объявили эвакуацию госпиталя. Нас направил военкомат грузиться в эшелоны. Подали деревянные вагоны. Мы сандружинницы – молоденькие девочки по 18 лет. Все хрупкие, худенькие… Опять таскали тяжеленные кровати и тумбочки, теперь уже в вагоны поезда. Носили на себе такие тяжести, что уму непостижимо! Раненых мы грузили в специальные вагоны, а сами ехали в холодных, не приспособленных для перевозки людей. Нас без конца бомбили, мы выбегали из поезда, прятались кто где. Самолеты улетали, и мы продолжали путь до следующего налета. Город мы покинули в сентябре едва ли не последними – после нас город закрыли, и началась блокада.
Мы прибыли в город Череповец, я даже не знала раньше, что такой город существует. Госпиталь располагался довольно далеко от железной дороги. Вот только госпиталем эти сооружения назвать было нельзя. В бывшем лагере для заключенных было 12 бараков. Окна одинарные, кругом грязь, все было ужасно. Мы принялись мыть, чистить, отскребать и уже в который раз таскать железные кровати. Вы не можете себе представить, две девочки поднимали носилки весом 80-100 кг. У меня тут же появилась межпозвонковая грыжа. Спать поначалу было негде, ночевали прямо на платформах, стелили фанерки, укрывались шинелями.
Наконец, все бараки были приспособлены под различные отделения. Отделение № 5 было приспособлено для самых тяжелых больных, № 12 – для легкораненых. Нас поселили в отдельный барак с двухэтажными нарами. Барак был разделен на отсеки по 4 человека. Спали мы, конечно, одетыми: 1941-й год был очень холодным, зима наступила рано, одинарные окна почти не держали тепло. Вскоре начали поступать с фронта раненые. Машин не было, мы носили их на носилках. Среди легкораненых были и так называемые «самострелы», они сами себе наносили легкое ранение, чтобы не возвращаться на фронт. Мы их лечили, а потом ими занимались сотрудники НКВД. Полевые госпитали просто не справлялись с таким количеством раненых. Сейчас невозможно себе представить, как было невыносимо тяжело. Страшная вшивость, но надо было солдат обрабатывать. Мы были очень скромными, стеснялись мужчин, когда они раздевались догола. Это было ужасно, ведь у многих были тяжелые раны.
Я работала в 5-м отделении для тяжелораненых. Главным хирургом госпиталя была Татьяна Оскаровна Карякина, она же была заведующей нашего отделения. В мирное время Татьяна Оскаровна работала ассистентом ленинградского профессора И.И. Джанелидзе, известного хирурга. Мы, сандружинницы, окончили курсы медицинских сестер. Я, дочь врача, многое видела и знала, поэтому быстро освоила сестринские обязанности. Давала больным наркоз, засыпала вместе с ним, потом у меня наступала стадия возбуждения, и меня выносили из операционной. Когда впервые на моих глазах ампутировали ногу молодому человеку, упала в обморок. Я сильно переживала за этих людей, особенно молодых, которые становились инвалидами. Это было очень страшно и тяжело.
Многих раненых мы спасали. Лежал в нашем госпитале один писатель, Константин Васильев, так он написал обо мне стихотворение под названием «Грозная сестра». У меня сохранился пожелтевший от времени листочек со стихами. Мне писали раненые стихи на клочках бумаги. Кое-какие мне удалось сохранить.
– Хватало ли медикаментов?
– Медикаментов сначала хватало, позже стало не хватать бинтов. Больных после обработки нужно было гипсовать. Мы размачивали старый гипс, разматывали бинт и гипсовали больного. Наш госпиталь был эвакогоспиталем. Мы делали все, что необходимо, и отправляли больных дальше. Тяжелые больные, с ранениями головы, груди, живота, оставались у нас. Как только им становилось немного лучше, их тут же отправляли дальше в тыл.
Нам было не до слез, мы делали дело
– То есть Вы фактически работали на передовой?
– Конечно, это был прифронтовой госпиталь. Дальше меня перевели в другой госпиталь. Наша работа не ограничивалась только уходом за ранеными. Мы старались их поддерживать, ведь многие потеряли родных. Кроме физической боли, солдаты испытывали страдания моральные. Вы не представляете, какая это страшная картина. Я так переживала! Мы были по-настоящему патриотами. Помню больного по фамилии Айзенберг, никогда его не забуду. Ему нужна была кровь, так я, не раздумывая, предложила свою. Так делали все. Я ему перелила свою кровь и спасла раненому жизнь.
По семь суток мы не выходили из отделения. Положишь голову на стол, поспишь немного и опять к больным. К усталости прибавлялось постоянное чувство голода. Когда сдавали кровь, нам давали дополнительный паек – килограммовую буханку хлеба на 10 дней. Так мы его съедали за один раз. А больных кормили неплохо, давали каши, консервы, тяжелораненым полагался даже коньяк…
Так прошел 1942 год, а в 43-м в моей жизни произошло очень важное событие – я вступила в Коммунистическую партию, и приняли меня под бурные аплодисменты.
Мама в осеннем пальто, шляпке и босоножках, а вокруг свистела пурга
– Как сложилась судьба Ваших родных во время войны?
– Я не знала, где была мама, тетя. Папы уже не было, он умер внезапно, в 1935 году дома. Ему было всего 45 лет. Папа целый день принимал больных и прилег отдохнуть. Ближе к вечеру мама попросила меня разбудить его на ужин. Я захожу в комнату, а он лежит мертвый. Это была огромная трагедия. На похороны папы люди пришли, как на демонстрацию...
Мой дядя, папин брат Владимир Петрович, с семьей жил в Запорожье, преподавал в Машиностроительном институте. Очень скоро после начала войны в город вошли немцы. Мой двоюродный брат ушел на фронт, а Владимир Петрович, его жена и моя двоюродная сестра Ниночка пошли куда глаза глядят, только бы подальше от немцев. У дяди Володи была язва желудка, в пути случилась перфорация, и он умер. Где он похоронен, так никто никогда и не узнал.
Два других моих дяди погибли на фронте. Моя мама работала в медпункте в Орше пока в город не вошли немцы. Орша был важнейшим железнодорожным узлом, откуда поезда шли во все концы страны. И немцы всячески старались захватить город. Мама отправила мою старшую сестру куда-то в деревню, подальше от бомб, а сама осталась работать в медсанчасти. Вдруг – приказ грузиться в вагоны и эвакуироваться. Это был последний эшелон. Мама не смогла даже забежать домой за вещами, так и поехала в босоножках и в осеннем пальто. Доехали до Вязьмы – вылезайте, дальше дороги нет – немцы. Все выскочили из эшелона и не знают, что делать, куда идти. Пошли кто куда. А зима в 1941 году началась рано. Быстро стало холодать. Мама шла в осеннем пальто, шляпке и босоножках, а вокруг уже свистела пурга. По дороге кто-то давал поесть, так и добрались до г. Лиски Воронежской области. Только дошли – опять немцы! Людей успели погрузить в машины и повезли в Ульяновскую область, привезли на станцию Майна, в село Поповка на Гуще. До конца войны мама работала медицинской сестрой в больнице.
Старшую сестру, Иру, угнали немцы. Когда уже после войны мы вернулись в Белоруссию, нам рассказывали, что немцы угнали практически всех людей. Эшелон, в котором ехала Ира, разбомбили по дороге, и почти все погибли. Если бы она осталась жива, она бы, конечно же, нашлась. Что с ней произошло, мы так и не узнали. В лагерь Равенсбрюк попала моя двоюродная сестра Галя, но ей удалось бежать. Она притворилась мертвой, незаметно выбралась из покойницкой и сбежала. Так она осталась жива. Тетю Олю, папину родную сестру, из Орши немцы угнали в Литву.
– Как Вы с мамой нашли друг друга?
– Я писала в Оршу тете Оле, чтобы через нее найти маму. Мама тоже должна была ей писать. Когда тетя Оля вернулась из Литвы в Оршу, дома не было – все сгорело, осталась одна зола. На пепелище она пыталась найти хоть какие-то вещи, может быть, драгоценности, но ничего не нашла.
Мамин брат, дядя Вася, когда приехал с войны из Германии, был направлен на Дальний Восток, на японскую войну, и по дороге, у какого-то озера он встретил своего младшего брата, дядю Шуру. Представляете? Позже дядя Шура погиб на японском фронте. А дядя Вася вернулся живой в Оршу. Мамин старший брат, дядя Коля, погиб.
Бабушкин старший сын также, как и бабушка, жил в Феодосии. Его жена, тетя Фаня, была еврейкой. Я ее никогда не видела. У них было трое детей, двое мальчиков и девочка Ляля, я ее знала, у меня даже сохранилась ее фотография. Когда в Феодосию пришли немцы, на тетю Фаню донесли, что она еврейка. Немцы забрали ее и детей и повезли на расстрел. Бабушка бежала следом и на чистом немецком языке говорила, что это ее внуки, что они русские. Но помочь не сумела, расстреляли всех.
После войны мама жила у бабушки в Феодосии, но я ее уговорила вернуться в Оршу к тете Оле. Наверное, я зря это сделала. А бабушка со своим мужем, греком Юрой (он был намного моложе бабушки), осталась в Феодосии. Потом бабушка умерла, Юра ее похоронил, а мама даже не смогла приехать на похороны – не было денег.
…Помню, как уже после войны, в 1946 году, я отправилась к бабушке на каникулы. Пассажирских поездов не хватало, людей перевозили в грузовых вагонах. Я всю дорогу ехала в вагоне, в котором раньше возили уголь. Очень хорошо помню дыру в полу, через которую было видно крутящееся колесо. В Джанкой я приехала вся черная от угольной пыли. Еле отмылась, но до Феодосии доехала уже как человек.
«Нонна дежурит – значит, все будет в порядке»
В начале 1944-го наш госпиталь вместе с наступающими войсками 52-й и 21-й армий въезжает в город Выборг. Город горел, взрывались мины, еще не закончились обстрелы. К зданию госпиталя мы не могли пройти – все было заминировано, кругом стреляют, раздаются взрывы. Мы прятались в разрушенных домах, туда же старались перенести раненых, чтобы оказать им первую помощь. Вскоре нам все-таки удалось переехать. Это был шикарный госпиталь, но немцы на первом этаже здания держали лошадей, и нам пришлось все там приводить в порядок, чтобы принимать раненых.
– К 1944 году Вы уже опытная медицинская сестра…
– Ну, конечно. За эти годы столько пришлось пережить, многому научиться. Я уже умела делать практически все. Кроме того, была политработником, политруком 1-го отделения, комсоргом госпиталя. Проводила политбеседы, читала раненым сводки с фронта. Причем я не пользовалась бумажками, все помнила на память. С лета 1944 года мы начали принимать бывших военнопленных. Война постепенно уходила все дальше, и мы в основном принимали тех, кто был в немецком плену. В госпитале постоянно работал СМЕРШ. Мы как политработники должны были помогать этой организации. Однажды в моем отделении повесился в туалете бывший военнопленный. При нем нашли записку: «Я изменил Родине, не могу возвращаться домой». Или еще случай: слышу – в отделении шум, крики, чуть ли не драка. Я прибегаю: «Что происходит?» Быстро всех успокоила. Оказывается, двое больных опознали в соседе по палате бывшего лагерного надсмотрщика, к тому же отличавшегося особой жестокостью. Фамилия его была Фигуровский. Его грозились убить. Так этот Фигуровский ходил за мной, держась руками за край моего халата. Сейчас я не знаю, что бы я с ним сделала, а тогда пришлось проявить выдержку, да и мне был всего 21 год.
Я считаю, что всех пленных нельзя было обвинять в измене Родине. Был у меня мальчик, летчик, без обеих ног. Скажите, как он мог избежать плена? Как он мог, тяжелораненый, выбраться из самолета? Надо же подходить по-человечески к каждому такому случаю. Но были и настоящие изменники – жестокие, отъявленные мерзавцы.
Наступил август 1944 года, пришло время убирать урожай хлеба, который посеяли еще финны. Вновь комсомольцы в первых рядах. Нам дали в руки серпы и – вперед. Я всегда старалась показывать пример другим ребятам: «Все за мной». Долго у меня еще сохранялся рубец на пальце после серпа.
На всю жизнь запомнила: жали мы пшеницу и вдруг видим – лежат семь трупов советских солдат. Они уже начали разлагаться. Бои здесь закончились еще в июне. Это было страшно, вокруг меня молоденькие девочки, ни разу не видевшие мертвых. Но я всегда старалась держаться. Бегу к начальнику заставы полковнику Галышеву, докладываю, прошу прислать солдат. Вынесли убитых с поля, у троих ребят нашли именные жетоны.
– За годы войны сильно изменился Ваш характер? Скромная, трогательная девушка, которая всего стеснялась, превратилась в волевую, сильную женщину?
– Что Вы, конечно! Я дежурила по части, пистолет «ТТ» всегда лежал у меня в кармане. Финны долго еще «заявляли о себе». Вокруг нас разбросаны хутора, там мог прятаться кто угодно. Прихожу на дежурство, а у солдата, кого я должна сменить, горло перерезано. Я видела много страшного. В рассказе нельзя передать того, что человек при этом ощущал. Передо мной лежит человек, живой, но я знаю, что он вот-вот умрет. Это надо пережить, чтобы понять. Но надо было делать дело, поэтому было не до слез.
– Вы на войне не начали курить?
– Боже упаси! Не курила, не пила, была кристально чистым человеком, очень строгая. Когда я дежурила по части, в мои обязанности входило проверять кухню, питание солдат. Так мне говорили: «Нонна дежурит – значит все нормально, и каша будет вкусная, и масло дадут полностью!» Я никогда в жизни бы ничего не взяла, в нашей семье это было просто невозможно.
Войну я закончила в звании старшины медицинской службы, была на офицерской должности и могла бы дальше расти, но просила начальство не присваивать мне офицерского звания, так как очень хотела вернуться в институт.
Страницы: 1 2






